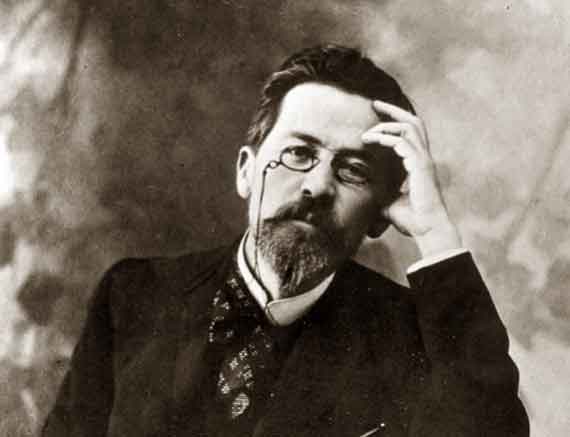
15 июля 2014 года исполняется 110-я годовщина со дня смерти великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Хочу ознакомить читателей сайта с материалами, размещенными в газетах и журналах 100-летней давности, когда отмечалась 10-я годовщина этой даты и когда память о писателе была живой, свое мнение могли высказать те люди, которые были современниками А.П. Чехова, знали его лично, а потому их мнение безусловно представляет значительный интерес.
Чехов и музыка.
К 10-летию дня кончины писателя.
(1904 - 2 июля—1914).
Отношение русских писателей к музыке составляет одну из любопытнейших страниц взаимоотношения литературы и музыки. Не составляет в этом отношении исключения А. П. Чехов, страстно любивший музыку, чувствовавший ее и, как тонкий художник, умевший передавать самые противоположные явления этого искусства. Читая Чехова, нельзя не заметить сквозящую у него любовь к музыке. Правда, у него не найти пространных рассуждений об искусстве, но те обрывки и мысли, которые рассыпаны на многих страницах Чехова, говорят о безусловном понимании писателем музыки и о любви к ней.
Помнится, в одном из писем Чехов говорит, что стихи, подобно музыке, он только чувствует, но сказать определенно не может,—почему он испытывает наслаждение или скуку. Вот это то «чувствование» музыки Чехов умел передавать с неизъяснимой тонкостью и проникновением, сообщая его и читателю. Кроме этой черты, понимания эмоциональной стороны музыки, Чехов проявлял еще и очень серьезный взгляд на искусство, относясь к нему с каким то благоговением. В одном письме из Италии он говорит:
«Ведь Италия, не говоря уж о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство в самом деле есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость».
Если мы ближе вникнем в отношение Чехова к музыке, то придем к убеждению, что оно базируется на трех элементах: роли, которую музыка играла в жизни Чехова, выявлении или отражении искусства звуков в творчестве писателя, и, наконец, влиянии творчества Чехова на музыку. Эти три элемента, в особенности два первых, так тесно связаны между собою, что нам многое было бы непонятно, если бы мы рассматривали их отдельно, независимо друг от друга. Из писем Чехова мы видим какое огромное влияние имели жизнь и окружающая среда на творчество писателя, как много он внес в творчество того, что видел и слышал вокруг себя. В «Рассказе неизвестного человека» описание гондольеров и музыки—личное переживание автора, а «Черный монах», как известно, снился как то Антону Павловичу. Фигурирующая там же серенада Брага была тогда очень в моде и часто исполнялась в доме писателя.
Интересно будет проследить какую роль музыка играла в жизни писателя, в особенности в детстве, переживания которого, как известно, оставляют след на всю жизнь.
Отец писателя, Павел Егорович, далеко не был чужд влечений к знанию и искусствам. С самого раннего детства он имел пристрастие к пению и музыке, главным образом духовной. Биограф Антона Павловича—Мих. Чехов говорит об отце писателя:
«Будучи таганрогским второй гильдии купцом Павел Егорович принимал деятельное участие в городских делах и, в то же время, в ущерб своему собственному делу, увлекался церковным пением, дирижировал хором, играл на скрипке и иногда рисовал».
Далее тот же автор, говоря о музыкальных занятиях семьи Чехова пишет:
«Приходил вечером из лавки отец и начиналось пение хором. Павел Егорович любил петь по нотам и приучал к этому и детей. Антон Павлович пел альтом. Кроме того Павел Егорович вместе с сыном Николаем разыгрывал дуэты на скрипке».
«Каждую субботу вся семья отправлялась ко всенощной и, возвратившись из церкви, еще долго пела у себя дома канон. Курилась кадильница, отец или кто-нибудь из сыновей читал икосы и кондаки, и после каждого из них все хором пели стихиры и ирмосы. Утром шли к ранней обедне, после которой дома все также хором пели акафист».
Кроме того А. П. участвовал в церковном хоре, что дало ему возможность хорошо изучить всю церковную службу. — У другого биографа Чехова—А. А. Измайлова мы находим еще упоминание, что единственным гулянием братьев Чеховых проводивших каникулярное время в лавке отца,—было посидеть на крылечке и вечером послушать отдаленную музыку городского сада.
Таков был музыкальный элемент в детстве Чехова. Мы не знаем развилась ли здесь любовь к музыке у писателя, скорее, если вспомнить его письмо к Щеглову этого не было, но трудно также предположить, чтобы в чуткую к музыке душу писателя—а таковою она была без сомнения—не запали здесь первые семена, которые впоследствии, когда музыка и пение не были обязанностью, произросли так пышно и дали такие глубокие корни.
Летние месяцы, если не ошибаюсь 1884— 87 г., Чехов проводил в Бабкине в семье Кисилевых. Здесь не только много музицировали, но так как хозяйка дома М. В. Кисилева была лично знакома с Даргомыжским и Чайковским, то и много говорили о музыке. Уже цитированный нами биограф писателя, М. Чехов, описывая этот период жизни Чехова, говорит:
«Я положительно могу утверждать, что любовь к музыке развилась у Антона Павловича именно здесь».
Любовь к музыке сквозит у Чехова также в его письмах, и здесь, как и в литературном творчестве, он никогда не говорит подробно о ней, а только лишь упоминает. Где бы писатель ни был, в далекой ли, угрюмой Сибири, в восхитительной, так очаровавшей его Италии, милой «Хохландии» или на Кавказе,—везде он подмечал музыку.
А колокольный звон! Чехов был страстным любителем его, любителем—каких очень мало и каких становится все меньше и меньше. Ниже мы увидим как мастерски его описывал Чехов, теперь же обратимся к личному отношению писателя к звону. В письме к Н. А. Лейкину 13 апреля 1886 г. мы читаем:
«День прошел весело. Ночью ходил в Кремль слушать звон».
Такие упоминания встречаются нередко в письмах Чехова, при чем часто дается и характеристика звона: «звон замечательный», «колокола звонят великолепно, бархатно». В другом месте он уже определенно говорит о бодром чувстве, навеянном колокольным звоном:
«Сегодня св. Николая, в Москве малиновый звон. Я встал рано, зажег свечи и сел писать, а на дворе звонили и было приятно».
Это же чувство приятного овладевало Чеховым и при слушании музыки. Мих. Чехов описывает пример подобного влияния музыки на писателя:
«Его небольшая квартира в Кудрине (где А. П. жил в 1888—89 гг.), маленький двухэтажный дом особняк, похожий на комод, в то время представлял из себя центр, куда стекалась молодежь. На верху играли на взятом на прокат пианино, пели, вели шутливые разговоры, а внизу он сидел у своего стола и под долетавшие до него звуки писал. Но эти звуки только подбодряли его. Он не мог жить без них».
Любя музыку, Чехов не мог, конечно, не любить творчества столь ему родственного по духу Чайковского, с которым он неоднократно встречался. О посещении последним он писал Суворину 13 октября 1889 г.
«Вчера был у меня П. Чайковский, что мне очень польстило, во-первых большой человек, во-вторых я ужасно люблю его музыку, особенно «Онегина». Хотим писать либретто».
В этом письме шла речь о Лермонтовской «Бэле», на текст которой Чайковский задумывал тогда оперу, и либретто которой думал разработать с Чеховым. Как известно, опера эта не была написана Чайковским, иначе мы имели бы сотрудничество двух очень близких по характеру и своеобразных по дарованию художников. А это было бы безусловно интересное сотворчество, хотя Чехов играл бы здесь только второстепенную роль, как литератор но не поэт. Остается только пожалеть, что судьба не свела этих двух художников на настоящее сотворчество, которое—в этом можно быть уверенным—дало бы русскому искусству выдающееся произведение, ибо слияние это не могло бы быть иным.
Параллель между Чайковским и Чеховым дает такой богатый и интересный материал, что может послужить темой самостоятельной статьи. Пока эта тема только намечалась, дальнейшая и подробная разработка ея была бы весьма желательна.
2.
Ф. Д. Батюшков в статье «Критические очерки и заметки» говорить о Чехове:
«Произведения Чехова поразительно разнообразны со стороны содержания. Люди самых различных положений, возрастов, состояний, настроений нашли себе место в его созданиях. Трудно даже и представить себе такой тип, общественное положение и коллизии обстоятельств, которые бы не были подмечены».
Такую же разносторонность, разнохарактерность и многогранность вы видите у Чехова в описании как музыкантов-профессионалов, так и просто лиц чувствующих музыку. Кто только из Чеховских героев не чувствует музыки, кто из них не отводит на ней свою душу, поверяет ей свои заветные мысли и думы? Тут и княгиня, и скотопромышленник; доктор и пастух, дьякон и рабочий; офицер и архиерей. Есть тут и достаточно у нас распространенные, «любители» музыки: барышня воображающая себя великой пианисткой, но в сущности играющая как все; провинциальная молодежь, играющая только марши и польки и спорящая о том, чего не понимает; мещанин не признающий музыки без барабана и др.
Со свойственной ему тонкостью, наблюдательностью и каким то особым добродушным юмором, а иногда и очень серьезно, Чехов описывал профессионалов-музыкантов. В рассказе «Ярмарка» Чехов описывает оркестр:
«Лучше всего оркестр, который заседает направо, на лавочке. Музыкантов четыре. Один пилит на скрипке, другой на гармонии, третий на виолончели (с тремя контрабасовыми струнами), четвертый на бубнах. Играют все больше «Стрелочка», играют машинально, фальшивя на чем свет стоит».
Не многим уступает этому оркестру— другой, в рассказе «Корреспондент»—
«Гурий—первая и плохая скрипка и дирижер, заиграл со своими семью музыкантами Черняевский марш... Играл он неумолкаемо и останавливался только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит: вторая и самая плохая скрипка была до нельзя пьяна и чертовски фантазировала, а флейтист ежеминутно ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся». Не мог, конечно, не отразиться в творчестве Чехова и военный оркестр, лучшее описание котораго мы находим в рассказе «Свадьба».
Есть у Чехова еще целый ряд рассказов из быта музыкантов-профессионалов: «Он и она», «Два скандала», «Контрабас и флейта», «Певчие», «Тапер»—последний по искренности, правдивости и чувству в него вложенному, безусловно самый удачный. Говоря о музыкантах-профессионалах в творчестве Чехова нельзя не отметить учительницы музыки в рассказе «Три года».
Мы уже знаем, что Чехов был редким любителем колокольного звона. Последний, само собою понятно, отразился в творчестве писателя, в котором встречается высоко-художественное, полное поэзии и своеобразного настроения описание звона.
«Ветер играл со звоном, как со снеговыми хлопьями; гоняясь за колокольными звуками, он кружил их на громадном пространстве, так что одни удары прерывались, или растягивались в длинный, волнистый звук, другие вовсе исчезали в общем гуле. Один удар так явственно прогудел в комнате, как будто звонили под самыми окнами» («На пути»).
В противоположность музыке, которая у Чехова, как мы увидим ниже, всегда имеет грустный оттенок, колокольный звон всегда вызывал радостные, бодрые чувства, и даже бывал веселым. Тому пример мы видим в «Архиерее». Когда Архиерей садился в карету чтобы ехать домой, то по всему саду освещенному луной, разливался «веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов». Подобное же описание колокольного звона мы встречаем дальше в том же рассказе:
«А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая волнуя весенний воздух»...
Позднышев в «Крейцеровой сонате» Толстого говорит:
«Вообще страшная вещь музыка. Что такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то что делает?»
Эти слова являются полной противоположностью переживаниям, навеваемым музыкой на героев Чехова. Здесь нет той неудовлетворенности, той раздражительности и повышенной возбудимости, которую испытывает при слушании музыки герой Толстого. Наоборот у Чехова музыка всегда поддернута дымкой грусти, на подобие улыбки прощания. Герои Чехова не только любят, но и верят в музыку.
«Почему искусство, например, музыка, так живуче, так популярно и так сильно на самом деле? А потому, что музыкант или певец действуют сразу на тысячи. Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко!»
И это чувствовали все чеховские герои. И Яншин («Расстройство компенсации»), которому музыка напомнила, «как мало в его теперешней жизни наслаждения и свободы, и как мелки, ничтожны и неинтересны задачи, которые он с таким напряжением решал каждый день от утра до ночи», и, Ольга из «Трех сестер», которая чувствовала, что музыка ей скажет «зачем мы живем, зачем страдаем»; и Володя—которому ни «mаmаn», ни окружающие не говорили о том, что есть на этом свете жизнь чистая, изящная, поэтическая, но которому о том поведала музыка. Таких примеров можно было бы привести очень много. Достаточно вспомнить рассказы: «Свирель», «Поцелуй», «Именины», «Дуэль», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда» и др., но это было бы только повторением вышеизложенного..
Кто видел или по крайней мере читал пьесы Чехова, тот не мог не заметить, что музыкальному элементу в них уделено не мало внимания; во всех пьесах: «Иванове», «Чайке», «Вишневом саду», «Трех сестрах», «Дяде Ване» и «Лешем» фигурирует музыка. Последняя здесь является не чисто внешним эффектом, которого Чехов вообще был совершенно чужд,—а чем-то неразрывно связанным с ходом всего действия и настроением героев. Последние, как и герои рассказов Чехова, искали в музыке утешения, душевного отдыха, а часто и забвения. Самого большого нарастания элемент музыкальности в пьесах Чехова достигает в заключительной сцене в «Трех сестрах». Если бы здесь не было музыки, финал не был бы таким трогательным, без нее он не достиг бы того подъема и силы, а этого Чехов, как тонкий психолог, как драматург настроений и полутонов не мог не чувствовать.
3.
Что внес Чехов в русское музыкальное творчество, как отразился он в музыке, и что вызвал в ней?
Несмотря на популярность, искреннюю и безыскусственную любовь русского общества к Чехову, творчество его почти не отразилось в музыке. Д. Мережковский в статье «О причинах» упадка и о новых течениях в современной русской литературе» говорит:
«Чтение рассказов Чехова отрывает нас от житейских огорчений, действуя подобно волнам музыки. В неожиданности его заключительного аккорда вся тайна творчества»,
и, в другой статье—«Старый вопрос по поводу нового таланта»—
«Рассказы его задушевны, но чувство, которое они производят в нас также неопределенно как музыка».
Не в этом ли причина малого отражения творчества Чехова в русской музыке?
Произведения Чехова или слишком реальны для музыкального воплощения, или вообще по размерам и форме совершенно непригодны для такового; или же сами по себе так ритмичны и музыкальны, что музыка является совершенно излишней. Музыкальная по характеру «Степь» и бесконечно поэтичный «Дом с мезонином»—ни в коем случае не нуждаются в музыкальной иллюстрации. То же самое можно сказать о пьесах Чехова; где музыка нужна, там она введена самим автором, а переложение их всецело на музыку, едва ли возможно,—таково уж их свойство.
Мы знаем только два случая переложения творений Чехова на музыку:—М. Остроглазова — «Хирургия» ультра-реалистическая инсценировка рассказа, и А. А. Спендиарова— мелодекламация заключительной сцены «Дяди Вани». Этим, кажется, пока и ограничивается влияние творчества Чехова на музыку, но, конечно, в будущем композиторы безусловно найдут у Чехова родственное их дарованиям, хотя по причинам вышеупомянутым, они едва ли будут многочисленны...
Имя Чехова в связи с музыкой всегда вызывает в нас о нем представление, как о художнике тонко понимавшем и ценившем искусство звуков; пусть в описании последнего у него всегда есть элемент грусти, но это грусть не безнадежная, а ведущая к подъему духа; это грусть манящая к иной жизни, к иным условиям и заставляющая стремиться вперед, к лучшему, к неизведанному, к чистому.
В этом значение Чехова, как литературного певца музыки.
Р. Энгель.
По материалам "Русская музыкальная газета" за июль 1914 года.
Еще по теме:
К 110-й годовщине смерти А.П. Чехова. Часть 1.
К 110-й годовщине смерти А.П. Чехова. Часть 2.
|