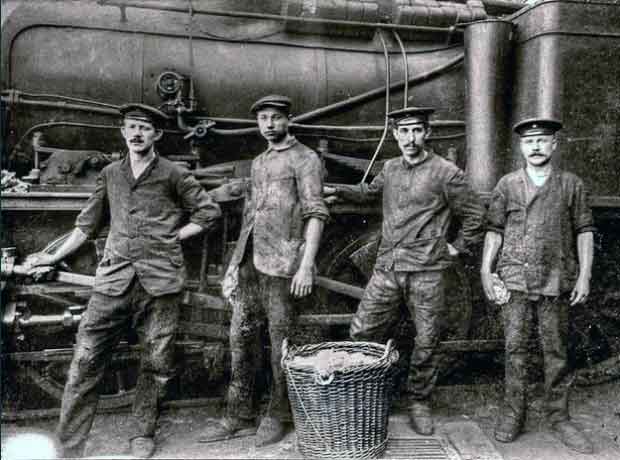
В Советской России
Предупреждение
Несколько месяцев тому назад правительство Соед. Штатов разрешило проживающим в Америке русским гражданам выехать обратно в Россию. Этим разрешением, прежде всего, воспользовались агенты большевистского правительства, которые путем широковещательных реклам принялись завербовывать русских эмигрантов, преимущественно рабочих, в особые группы для отправки в советскую Россию.
В различных пунктах Сев. Америки открылся ряд вербовочных бюро, а также особых контор по организации обратной перевозки эмигрантов, пересылки денег в Совдепию, исхлопотыванию виз на выезд и пр. Большие нью-йоркские русские газеты, совмещающие на своих столбцах коммунистическую пропаганду (до большевистского правописания включительно) с чисто капиталистическими рекламами, с своей стороны повели широкую агитацию в пользу возвращения эмигрантов в советскую Россию.
Агитация эта, по-видимому, увенчалась некоторым успехом. На удочку официальных большевистских агентов и неофициальных большевиствующих органов печати попалось много рабочих, истосковавшихся по родине и решившихся отправиться в московский «рай».
Первые эшелоны, выехавшие из Америки месяца полтора-два тому назад, прибыли уже в Россию. Как же были встречены они большевиками, столь сильно заманивавшими их в совдепию?
Ответ на этот вопрос находим в московской «Правде» от 18 ноября. Газета пишет о прибывших из Америки:
«На границе их «погрузили» с женщинами и малолетними детьми в холодные эшелоны, а там в Москве они по целым дням бродят по платформам Виндавского вокзала или валяются на голом полу в тесноте и грязи центроэвака среди беженцев и пленных».
Тех немногих, которым все же, в конце концов, удается вырваться из «тесноты и грязи» большевистских приемных пунктов, советская власть бросает затем на произвол судьбы. «Правда» констатирует, что прибывающие из Америки распыляются по России и, предоставленные самим себе, оказываются вне поля зрения советских органов.
Большевики из «Правды» забили по этому поводу тревогу. Но их беспокоит не столько судьба этих обманутых людей, ехавших из Америки в коммунистический рай и попавших на голый грязный пол, сколько другое обстоятельство: по свидетельству газеты,
«в общих бараках беженцев и военнопленных стоит атмосфера вражды и недоверия к советской власти».
Вот почему «американцев» надо вырвать из общих бараков — ведь, рассеявшись по России, они, обманутые большевиками и разочарованные в своих надеждах, легко могут явиться лучшими проводниками «атмосферы вражды и недоверия» из закрытых бараков по всей России.
120 германских рабочих, в свое время поддавшихся на заманчивые обещания немецких агентов большевизма, брошенных по прибытии в Россию на произвол судьбы, проклинающих день и час своего отъезда из Германии в Совдепию и тщетно пытающихся добиться, наконец, права уехать из коммунистического рая, не являются единственными жертвами.
Быть может, признание «Правды» послужит предупреждением для других легковерных наших соотечественников.
Руль, №17, 5 декабря 1920 г.
Доклад Эйдука
Москва, через Ревель (Соб. кор.)
Прибывший из Берлина в Москву известный чекист Эйдук представил председателю Цика Калинину доклад о своей поездке в Германию. Эйдук утверждает, что при объезде лагерей старые пленные и интернированные красноармейцы встречали его «с нескрываемым восторгом». Приводя ряд резолюций, принятых группами военнопленных, большевиков, Эйдук ни слова не упоминает о выступлениях в ряде лагерей, направленных против советской власти, повлекших за собой применение со стороны Эйдука жестоких репрессий.
Письмо из Лондона
(От нашего корреспондента)
Лондон, 3 декабря.
За последние дни в английской печати точно какой-то заговор молчания о России. Некоторые газеты напечатали, правда, довольно подробный отчет о злоключениях английских матросов, проведших несколько месяцов в большевистском плену в Баку.
Рассказы этих простодушных людей мало что прибавляют к знакомой отвратительной картине большевистского насилия, наглости и беззакония. Но как простая фотография имеет большее сходство с оригиналом, чем портрет, нарисованный бездарным художником, так и эти рассказы ярче и жизненнее всего того, что писали о Совдепии «литературные» Хлестаковы, Иудушки и Репетиловы.
Этим ограничивается, в последние дни, почти исключительно газетный материал. Так называемая «большая пресса» после крымской катастрофы упорно воздерживается от каких бы то ни было комментариев, пророчеств и даже диагноза создавшегося положения. За немногими исключениями, как вы знаете, английская печать уже несколько времени тому назад, -пожалуй, правильнее было бы сказать — со времени отступления армии при Деникине, вызвавшего уход этого вождя с военно-политической арены, приняла лозунг, что большевиков извне сломить нельзя, что гражданская война лишь усиливает их.
Когда произошла последняя, недавняя катастрофа, первым возгласом, понятно, было:
«Вот, видите, мы говорили, что это дело безнадежное. Теперь большевикам не с кем больше в России воевать. Стало быть, должен, согласно нашей теории, пойти быстрыми шагами процесс внутреннего разложения».
Оказывается, большевики и не думают спешить установлением того своеобразного «мира» в России, с непременным подчинением страны их победоносному владычеству, о котором мечтала и пророчествовала часть здешней печати. Печати этой сейчас некого в Россия ни обвинять, ни презирать. Так называемая «контрреволюция» в глазах этой печати, попросту говоря, перестала существовать. От внимания читателя, конечно, не ускользнет, что газета «Тimes», посвящающая целые столбцы той теме, что гольф стал в Англии слишком дорогим спортом, не находит места для сведений о России.
Вчера в отделе «Заграничных мелочей» мелким шрифтом было напечатано, что русскими политическими партиями в Париже делаются приготовления к возвращению на политическую сцену А. Ф. Керенского. Это, быть может, и в самом деле политическая мелочь, но все же характерно, что попытки русских кругов достигнуть объединения трактуются наравне с известиями о продлении забастовки в парижской опере.
Как я Вам вчера телеграфировал, газеты обошли молчанием вечер в память Толстого. Ни одна из больших газет о нем не упомянула. Не было даже краткого пересказа речей, не то что стенографической передачи. Собрание было многолюдно, а ораторов слушали внимательно. Из произнесенных речей наиболее содержательна была речь Милюкова.
Бернард Шоу говорил о Толстом только как о драматурге. Как водится, речь его была более остроумна, чем содержательна. Надо признаться, что по сравнению с мировой славой и мировым значением Толстого, собрание было довольно-таки бесцветно.
Большую публику гораздо больше интересует другая речь, произнесенная в тот же вочер Ллойд Джорджем на обеде федерации английских промышленников. В ней есть одно очень яркое место—Ллойд Джордж мастер на картинные выражения.
«Мы находимся, говорит он, в положении хозяина лавки, битком набитой товаром, пред которою стоит толпа нищих. Нужда в наших товарах у них огромная, а купить им не на что».
Это та тема, которой я уже неоднократно касался. Ясно, что если у лавочника нишкаких других покупателей, кроме нищих, не будет, то и лавочник сам, непременно превратится в нищего. Как справедливо указывает и печать, и некоторые из «тузов», к которым была обращена речь премьера, он только сделал правильный диагноз критической болезни, но рецепта для больного прописать не сумел. В результате, дан новый толчок ужо и без того громкой и настойчивой пропаганде экономии во что бы то ни стало.
Печать сегодня сообщает, что в переговорах с большевиками опять серьезная заминка. Все те же камни преткновения: старые государственные долги, краденное золото и большевистская пропаганда. Сейчас идут переговоры между премьерами в Лондоне о более насущных вопросах—греческом и малоазиатском. До Совдепии еще по добрались.
Тем временем в Ирландии все обостряется борьба. Не успели похоронить в Лондоне с военными почестями «зверски убитых» восемь офицеров, как двойное число их было убито подлинно зверским образом, с изуродованием до неузнаваемости тел. Доступы к некоторым казенным зданиям в Уайтхолле забаррикадированы. Доступ публики в парламент ограничен. Все это из опасения актов терроризма.
Невольно приходит в голову лозунг, во имя которого велась мировая война: «Сделать мир безопасным для демократии». По-видимому, безопасность эта весьма непрочная, и приходится не только усилить ряды «полиции безопасности», но и вооружать эту полицию более сильным оружием, нежели традиционные короткие палки лондонских полисменов.
Соnstаns.
Руль, №19, 8 декабря 1920 г.
Еще по теме
|