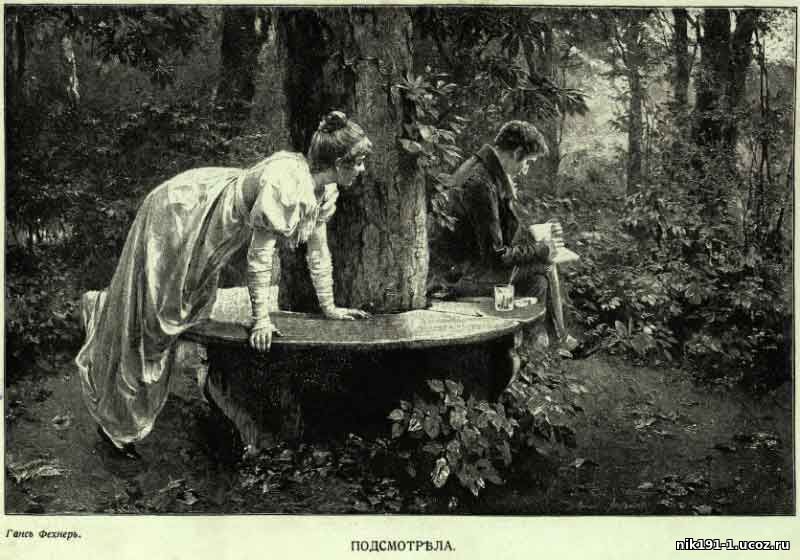
Материал из журнала "Пробуждение" за 1916 года.
Как это ни печально, но статья, написанная 100 лет назад, актуальна и сегодня на все 100%. Годы бегут, а нравы не меняются.

Очерк Н. Степаненко
Когда отдельные случаи превращаются в общие и делаются достоянием толпы, — в душах людей зарождается психоз. А всякий психоз, как явление, вызываемое ненормальными условиями жизни, не только нежелателен, но и в высшей степени опасен для общественного спокойствия.
Достаточно было только одного слуха, пущенного трусливыми, а может быть, и намеренно злыми людьми, что Киев находится в опасности, как десятки тысяч людей побросали все свое хозяйство, а ценные вещи отдавали за бесценок, и пустились бежать в глубь страны.
Достаточно было повыситься в цене тем предметам потребления, которые в силу сложившихся условий жизни должны были пойти на повышение, как заодно уж вздорожали и другие предметы включительно до головных женских шпилек, булавок, ниток, тесемок и проч. мелочи.
Всем известно, что пряжа—изделие женских рук, булавки, шпильки вырабатываются на фабриках также женщинами. Женщин не мобилизовали, на театр военных действий не отправляли и в городах и деревнях их хоть отбавляй, а между тем женский труд вздорожал наравне с мужским. Отчего это? Психоз действует; психоз всюду и везде.
У торговца огромные запасы мануфактуры, бакалеи, приобретенных им еще по прежним, дешевым ценам. Станет ли он продавать товар без надбавок и повышений? Что-то о таких людях за все время поднятия цен не слышно было. Да, ведь, если бы и нашелся такой чудак,—засмеют, сумасшедшим назовут.
Толпа всегда была толпой и у нее своя логика мышления.
Какие огромные капиталы нажили и еще наживут те, которые спекулировали на ценах повышения! Сейчас о них пока не слышно, а после войны они непременно объявятся.
Займутся «стройкой», станут расширять свои торговые обороты.
И разве одни только торговцы спекулировали и спекулируют? А железнодорожники, без зазрения совести говорящие:
— Дашь 25 рублей,—пущу вагон.
Вакханалия на железных дорогах, превратившаяся в своего рода панаму, в настоящее время не составляет уже секрета. О ней говорят и пишут откровенно. Железнодорожных дельцов называют «маленькими панамцами»... Так ли? Маленькие ли только? Брали по 25 руб. за вагон. Но, ведь, были и такие, которые брали и побольше...
Грозу и молнии метали в свое время на интендантов—в настоящее время, благодаря тому, что война приняла народный характер, они остались в стороне... Железнодорожные «интенданты», кажется, побили рекорд; действия их отразились, если не столь сильно на армии,—зато легли тяжелым гнетом на тех, которые оставались в глубоком тылу.
— Сидор берет за вагон 25 рублей, а чем я хуже Сидора?
Не хуже, но и не лучше.
Сидору, Игнату, Ипату нет надобности до того, что он своими действиями и поступками увеличивает то зло, от которого стонет и корчится такой же точно мужик, как и он сам, силою условий и обстоятельств оторвавшийся от сохи, от«власти земли» и очутившийся у железнодорожных рельс. От охватившей его горячки—«дохнуть некогда»... Какие уж тут думы! Живет он не думами, не мыслями,—психоз одолел; вихрем кружится он и, как тлетворная язва, заражает воздух. И тысячи, и миллионы людей находятся под его страшно могучим влиянием. Деревенский мужик, тот именно мужик, который не утратил еще смысла жизни, привык жить по-правде, «по-божьи», вдруг и неожиданно утратил эту самую правду, перестал жить «по-божьи». Логика мышления уже не та; он подпал под давление психоза и мысли его формулируются словами:
«Я—что! как все, так и я»...
Страдания и скорбь души, и это самое: «как все». Есть над чем задуматься!
Человек всей душой, всем сердцем там, а дурные инстинкты, не переставая, толкают куда-то назад и в стороны, где зияет темная бездна и виднеются глубокие провалы.
Действия, как известно, вызываются причинами.
«История управляется общими постепенными законами,—говорит Михайловский,—но не они составляют прямую непосредственную причину человеческих действий.
Человек действует под напором той сети условий, среди которых ему приходится жить; и эта сложная сеть подчинена общим, простым и постоянным законам».
Борьба с ними невозможна для человека, «будь он семи пядей во лбу»... И эта «сеть условий», и этот «напор» делают то, что так часто приходится наблюдать: калечат душу человека, и все его действия и поступки бросают в хаос противоречий до того пестрых и сумбурных, что подчас и разобраться нельзя.
У Глеба Успенскаго, этого знатока и провидца души народной, можно найти десятки и сотни такого рода противоречий. И не даром он однажды воскликнул:
«Бог знает, что бы дал я в эту минуту, если бы мне пришлось увидеть что-нибудь настоящее, без подкраски и без фиглярства: какого-нибудь старинного станового, верного искреннему призванию своему бросаться и обдирать каналий, какого-нибудь подлинного шарлатана, полагающего, что с дураков следует хватать рубли за заговоры от чертей,—словом, какое-нибудь подлинное невежество, лишь бы оно считало себя справедливым!..».
Невежества, конечно, и в настоящее время непочатый угол, а вот такого невежества, которое «считало бы себя справедливым»,—такого невежества и в настоящее время найти трудно. И не потому, чтобы психоз поглотил его, а потому, что и не было его вовсе: расплылось оно и потонуло еще до того момента, когда психоз вошел в толпу.
Жалостливое чувство, вызывающее на глазах слезы, удивительно тонко и тесно сплелось с другим чувством, ничего общего не имеющего с жалостью и участливостью к обездоленным.
Женщина вынимает из туго завязанного в узел платка и отдает беженке с ребенком на руках последний пятак. И та же самая женщина несет на базар десяток тухлых яиц—испортились они потому, что держала она их долгое время и ждала повышения цены—и продает беженке, такой же несчастной, как и та, которой она отдала последний пятак, хотя и без ребенка на руках.
Мужики, «гуртом» пахавшие полосу солдатки, помогавшие убирать с поля хлеб, запрашивают тройную цену с той же солдатки за перевозку дров из казенного леса, и бедная женщина по частям перевозит их на ручных санках, частью на собственных плечах.
Такого рода несообразностей подлинной обывательской жизни неисчерпаемый источник, и всюду и везде, чуть не на каждом шагу, приходится наталкиваться на них. Это и есть та сложная «сеть условий», среди которых приходится жить и с которой, как говорил Михайловский, бороться невозможно.
Корчится человек, мучается,—конечно, ему надо помочь. И помогают. Но почему же этого самого человека и не обобрать, раз представляется к тому случай?
Тысячи комиссий, комитетов, обществ,—а разве обывателю легче жить?
Крик все тот же—немолчный и подавляющий:
— Жить надо!
Одни кричат: «жить надо!», другие вопят: «жить нельзя!».
Ломовой извозчик, ранее довольствовавшийся 5-рублевым заработком, теперь иначе не желает мириться, как на четвертной.
— Разве я не такой, как иные прочие? И мне жить надо!
С своей точки зрения прямолинейной логики он, конечно, прав. Но, ведь, и логика бывает разная, смотря из чьей головы она выходит.
У ломовых извозчиков она — одна, у приволжских купцов-миллионеров она—другая.
Один купец-мукомол — знаю я такого—из-за того, что ему невыгодно продавать муку своим—делает искусственный «затор», якобы в видах тех, что подвоза зерна нет, а сам отправляет муку огромными транспортами через Финляндию в Швецию.
Здесь уж, пожалуй, и не психоз действует, — подлый расчет, рассчитанный на наживу «под шумок».
А когда такого рода «людишки»—их иначе и назвать нельзя — жертвуют десяток—другой тысяч на дела благотворения, их венчают лаврами, преподносят почетные дипломы на степень благотворителей.
Настанет время—и психоз рассеется; жизнь войдет в обыденную колею и толпа перестанет быть инертной и подавленной.
И тогда—раскроются глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать...
Н. Степаненко.
|