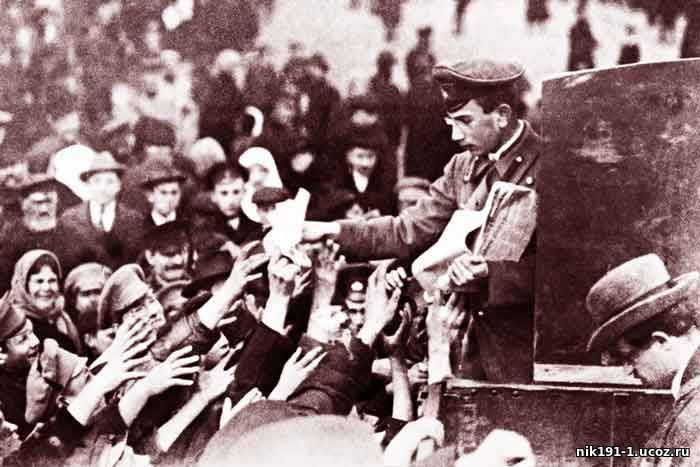
По материалам периодической печати за август 1917 год.
Все даты по старому стилю.
ПЕЧАТЬ И ЖИЗНЬ
Злорадно сводят счеты
Грустное, минутами же просто жалкое зрелище представляет сейчас большая часть наших газет:
причитают, ахают, стонут, истерически завывают, а в общем—взвинчивают обывательские нервы, сеют панику и смуту. Тошно читать. Обидно думать, что это—"руководители" или хотя бы только "выразители" общественнаго мнения.
Обидно потому, что в аларме, поднятом газетами, чувствуется на каждом шагу какая-то стихийная растерянность, тесно сплетенная с политическим недомыслием и чисто обывательскою пошлостью. Можно подумать, что до злостного падения Риги все шло у нас, если и не прекрасно, то, во всяком случае, сносно.
Можно подумать, что новый тяжкий удар вскрыл какие-то особенные язвы, точно и до него язвы эти недостаточно душили нашу родину, пашу измученную войной и внутренней разрухой свободу. Смешная, младенческая логика: цепляться за последний, больно ударявший по сознанию факт и на нем срывать свой гнев и в тоже время строить свои дальнейший упования!
Но эта наивность все же куда привлекательнее того тупого злорадства, которым залиты столбцы «Речи», сводящей на развалинах Риги свои партийные счеты к празднующей (не слишком ли поспешно?) победу над «Советами» и «Стокгольмом».
Газета кадетов буквально задыхается от злости всякий раз, как говорит о «революционной демократии». Эти сакраментальные слова она употребляет не иначе, как в иронических кавычках. Повторяется история с «красной тряпкой»—во всероссийском масштабе. Все валится на «красную тряпку». Все беды России связываются с деятельностью «революционной демократии».
«Жалкие, бессильные люди, осужденные историей!»
— патетически восклицает «Речь» по адресу представителей этой демократии. Сама жалкая, сама бессильная, сама осужденная историей на старческое злопыхательство и сдобренное лицемерием клеветничество,— она как будто не замечает, как смехотворен пафос ее, как неумны, ну хотя бы следующие выпады ее в сторону «Стокгольма»:
"Стокгольмская затея голландско-скандинавского комитета, так любовно поддержанная нашей «революционной демократией», потерпела плачевную неудачу...
Сам Артур Гендерсон, проделавший в вопросе о Стокгольме сложную и причудливую эволюцию, полагает теперь, что, при настоящих условиях, международная социалистическая конференция явилась бы «пагубной»...
Напечатанная в советских «Известиях» телеграмма русской социалистической делегации слегка приоткрывает завесу над мистериями лондонских совещаний союзных социалистов...
Для всякого беспристрастного человека должно быть ясно, что результаты лондонской конференции равносильны позорному провалу «платформы Совета».
Наш Совет задался неосуществимой мыслью подвести всех союзных, вражеских и нейтральных социалистов под один мертвенный, казарменный ранжир. При первом же соприкосновении с реальной жизнью, блещущей всевозможными национальными оттенками, их интернационалистическая схема рассыпалась в прах. Даже междусоюзническая солидарность социалистов оказалась недосягаемой мечтой".
Сколько тут чисто аттической соли! Сколько сарказма! Сколько убийственного яду!... И когда подумаешь, что это пишут люди, которых по традиции все привыкли считать «цветом русской интеллигенции», то невольно скажешь:
бедные люди! до чего довело вас политическое бессилиее Как рано сказался над вами суровый суд истории!..
***
Истерика (Іntermezzо)
«Русская Воля» совсем обезумела, бьется в истерике и причитает:
"Пришел час расплаты за нашу умственную безответственность. Мы умственно и нравственно сбили народ с толку, мы расстроили весь наш политический и социальный механизм. Мы расстроили народный труд, мы расстроили армию.
Мы - умственные и нравственные вожди, мы—во всем виноваты. Нам нужно стать на колени перед народом и всенародно перед ним покаяться. Нам нужно всенародно отречься от Интернационала, от классовой борьбы, от обожествления имущества».
Вот видите, сколько грехов за «нами»—за революционной демократией. «От ней все качества», а в том числе и падение Риги. Разве не убедительно? Все шло так великолепно и до войны и первые два с половиною года ея. А вот пришли «мы»—и все пошло вверх дном.
Это ведь тоже своего рода «философия истории»... для кликуш и плакальщиц из «Русской Воли».
«Волна большевизма»
О последнем заседании Петроградского Совета Р. и С. Депутатов «Речь» пишет:
Резолюции, принятые в последнем заседании Совета о смертной казни, об арестах большевиков, говорят о нарастании большевистской войны. Это результат «примирительной политики», которая была усвоена, когда сгладились впечатления июльских событий.
Нужно отдать справедливость И. Г. Церетели: он мужественно и с достоинством встретил этот удар, и, по крайней мере, на этом заседании в его лице Исполнительный Комитет не пошел в большевистскую Каносу, но партия, во главе которой стоит Чернов, осталась верной лозунгам демагогии: во вчерашней победе большевизма с.-р. сыграли видную, решающую роль.
Еще ранее Петроградского Совета против смертной казни поднял свой голос Московский Совет. И там м-ки и с.-р. не решились «мужественно и с достоинством» взять на себя роль поставщиков солдатских голов на плаху контрреволюции.
Но пусть утешится «Речь»: на «обвинительном» съезде «Новой Жизни» и Потресова, по настоянию Церетели, отклонено предложение Мартова присоединиться к протесту Петроградского Совета против смертной казни. Незначительным большинством, но все же большинством, съезд под пустейшими предлогами уклонился от выражения солидарности с Петрогр. Советом.
Итак, пусть утешится «Речь»: усилиями объединяющихся Потресовых и «Новой Жизни» цементируется оплот против «волны большевизма».
Где контрреволюция?
«День» также обеспокоен резолюцией Совета, видя в ней «грозный симптом» проникновения контрреволюции в Совет. Буржуазные публицисты в злобе на то, что Совет отворачивается от мелкобуржуазных глашатаев шарлатанской «коалиции», дарят своих читателей такими образцами политической прозы:
Те массы, которые идут за большевиками и интернационалистами, от революции уже отошли, они объективно контрреволюционны, что они и выражают, правда в своеобразной форме, относя вождей революции к контрреволюционерам. Они правильно определяют, что между ними и революцией нет ничего общего.
Они вступили на путь борьбы с революцией, разрушая в той или иной форме как ее завоевания, так и самую ее основу.
Хорошо пишут Канторовичи и Кливанские, эти «объективно-революционные» критики движения и борьбы сотен тысяч рабочих и солдат. По мнению Канторовичей и Кливанских, как только массы отворачиваются от «революционных вождей, между ними и революцией не остается ничего общего». Мы же полагаем (с большой основательностью!), что, когда «вожди» отворачиваются от пролетарских масс и, перекинув мост в лагерь буржуазии, отправляются к ней на службу, тогда между ними и революцией не остается «ничего общего».
Остается спросить, кто же по мнению «Дня» вожди революции? «День» имеет своего кандидата: Плеханов.
В защиту этого «революционного вождя», от которого уже давно отвернулись «контрреволюционные» массы, «День» пишет:
Кстати о Московском Совещании... Кто поднял тогда на историческую высоту революционную демократию, как не Плеханов? Ведь это он взялся доказать и блестяще доказал объективную непогрешимость демократии в процессе русской революции. Ведь это он принял бой с цензовой Россией и двинул в помощь Церетели тяжесть своего тонкого анализа, ясность государственного ума и силу своего революционного авторитета. И когда он закончил свою замечательную речь, кто сомневался в том, что говорил... вождь?
На Западе сознательные рабочие отвернулись от Гэда и Самба — вошедших в министерство «национального спасения», от Шейдемана—поддерживающего «гражданский мир»; в России они отвернулись от Плехановых, Потресовых, Церетели, Данов и пр. В презрении и ненависти рабочего класса к социал-перебежчикам — залог роста и успеха пролетарской революции!
Сеют иллюзии...
Советское большинство — м-ки и с.-р.р начав отказом от всей власти, кончили отказом от всякой власти. Они санкционировали и укрепили режим буржуазной контрреволюционной диктатуры, они помогли этому режиму опереться на Московское Совещание.
Нельзя ли все это вновь переделать «по-хорошему»? Нельзя ли вычеркнуть несколько недель и вернуться к старому соотношению сил?
«Новая Жизнь» с недалеким и непростительным прекраснодушием уверяет:
Как ни много революционных завоеваний мы утратили в последние недели, все же одно из них, и быть может важнейшее, остается в силе: правительство и его политика могут держаться лишь волею советского большинства. Все влияние революционной демократии уступлено ею по собственному желанию; вернуть его демократические органу могли бы еще вполне легко; и при надлежащем понимании требований момента могли бы без труда ввести политику Вр. Правительства в надлежащее русло.
Делать такие заявления значит сеять иллюзии в массах, значит вводить их в обман. Нет, для возвращения «влияния» демократическим органам нужно нечто большее, чем «надлежащее понимание требований момента». Теперь «революционной демократии» не избегнуть самой суровой борьбы за влияние, за власть. «Новая Жизнь» сама не проявляет «надлежащего понимания» главной особенности момента.
Г. Сокольников
Еще по теме
|