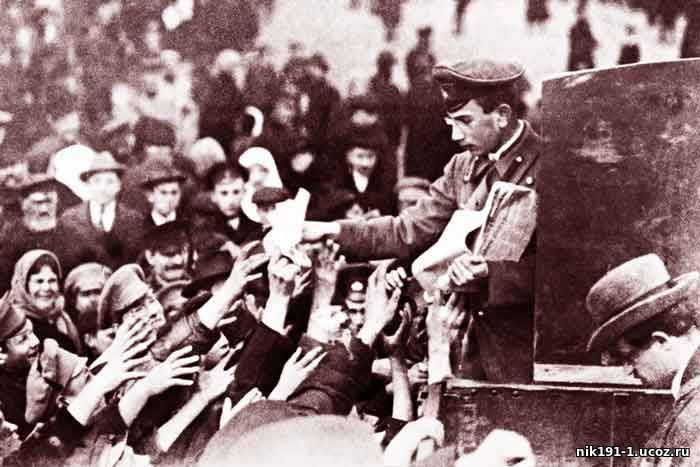
По материалам периодической печати за октябрь 1917 год.
Все даты по старому стилю.
Обзор печати
Гражданин имеет право защищать свои интересы силой лишь в исключительных случаях, государство же не имеет возможности отстаивать свои интересы иначе, как силой, т. е. вооруженным столкновением армий, следовательно, пока существуют государства, имеющие свои интересы, войны неизбежны, а потому необходимы и армии, построенные на тех или иных принципах, армии сильные и боеспособные. Наша армия за последнее время утратила оба эти свойства, все начинания, направленные к восстановлению их, пока не были плодотворны и встречали сильное противодействие, что несомненно отдаляет желанный мир, ибо для заключения мира нужна сильная армия.
Это сознает орган Московского совета солдатских депутатов «Солдат-Гражданин»:
Реформа армии началась, так долгожданная, так необходимая реформа. Так пусть же никто не мешает ей, пусть не сеют в армии смуту анархические элементы, пусть укротят свою злобу враги свободной армии. Она нам нужна сильная, организованная, чтобы как можно скорее кончить войну, чтобы мы могли сказать: „мы имеем силу, но кончаем войну".
«Война и мир» верит в возможность обновления армии, верит, что она в недрах своих хранит огонь патриотизма; ссылаясь на постановления ряда армейских организаций, призывающих к строгому и добросовестному отношению к служебному долгу газета пишет:
Нам эти голоса тем более дороги, что они укрепляют нашу всегдашнюю веру в неизменно-здоровые корни народного духа, в те источники воинской, гражданской и истинно революционной доблести, которые живы в недрах солдатской массы и лишь временно замутнены великой путаницей сложных по себе или нарочито извращенных понятий, сбивающих с толку беззащитное сознание народа.
Уставшая в великих трудах, волнуемая великими надеждами и великими тревогами, безжалостно искушаемая пред лицом опасности и смерти темными толками об империализме и интернационале, запутываемая фанатиками, обманываемая провокаторами, развращаемая преступниками в уголовнейшем смысле этого слова, опутанная дьявольской сетью немецкого шпионства,— несчастная великая армия наша хранит, все же в недрах своих священный огонь патриотизма, инстинктивный ужас перед новой и горшей тиранией.
Газета рекомендует не смущаться тем, что это единичные голоса, а совершенно справедливо призывает помочь всеми средствами армии работать над воссозданием своей мощи.
Из этих именно недр идут эти—пусть единичные— голоса; оттуда обращается к „бесчинствующим", к „играющим судьбою родины" этот гневный, угрожающий взгляд. И это—как раз тогда, когда в обывательской толпе ползут неведомо (или слишком ведомо) кем пускаемые слухи о том, что армия наша собирается „бросить все и уйти с фронта".
Нет, она ничего не бросит и никуда не уйдет. Но надо ей помочь и помочь именно теми средствами, на которые указывает она сама устами лучших своих представителей. Ее нужно одеть, накормить, усилить всем, что дает армии силу.
Для воссоздания армии прежде всего нужны интеллигентные силы внутри ее самой; такими силами является наше строевое офицерство, поставленное революцией в невозможное незаслуженное положение; с одной стороны офицеров безнаказанно унижают солдаты, а с другой—их, боевых сынов родины, раздражает несправедливым отношением правительство. Может ли в таких условиях работать русский офицер.
«Вечернее Время», останавливаясь на вопросе, чем правительство раздражает боевых офицеров, проливающих ежедневно свою кровь при самых разнообразных обстоятельствах, говорит:
та же самая непорядочность тыла и то же пользование тогой благородства и „необходимости". Офицерство не может не видеть и проходить равнодушно мимо попрания основ справедливости теми, кто призван соблюдать ее прежде всего. Напрасно думать, что льстивые слова о „бескорыстности" офицерства будут безотказным щитом в руках людей, явно не понимающих необходимости быть скромными в пользовании тем случайным положением, которое только и дало многим возможность достичь степеней „известных".
А между тем, что же представляют собою все эти случаи феерических производств в тылу, эти сногшибательные карьеры опять-таки тыловиков? Что же! это они то (эти карьеры и производства) и должны служить средством ослабления жажды карьеры, зависти и преследования личных интересов, о котором так много и часто приходится слышать от тех же счастливых тыловиков их товарищам на фронте?
Правительство, если хочет скорого мира, планомерной, а не стихийной демобилизации, должно поддерживать авторитет офицерства, не раздражать его и без того издерганного тремя слишком годами воины, укреплять в нем веру в то, что отечество не забудет их заслуг. Ведь даже в случае немедленного заключения мира, армии придется провести в окопах часть, если не всю, четвертой зимы; вся тяжесть этого зимнего стояния опять обрушится на спину офицеров тяжелым крестом—нужно будет удержать в окопах и солдат, а как это сделать?
На этот вопрос пытается ответить «Война и мир».
Неужели правы утверждающие, что при первых морозах,— а может быть уже и в осеннее ненастье,—все наши фронты, от Балтийского моря и до Черного и от Черного до Каспийского, повторят Тарнополь и Ригу, т. е. бросят окопы и хлынут в тыл, сметая все на своем пути? Правы ли они или неправы, покажет будущее, но мне думается, такого массового психоза, хотя бы и под влиянием жестоких морозов, ожидать нельзя. Наша армия дезорганизована, слов нет, но ринуться в тыл целыми полками, дивизиями,—это ужо и не дезорганизованность, а безумие в буквальном смысле.
Что же удерживает в окопах наши полки, сбитые с толку преступной пропагандой, расшатанные всяческими экспериментами в области военной организации? И кто должен оказать поддержку лучшей части армии, еще не всецело охваченной заразой?
На этот вопрос газета отвечает совершенно справедливо, что сделать это может только работа культурных сил, направленная к поднятию национального духа армии.
К пробуждению и развитию национального духа армии надо приступить, не теряя времени. Новую зиму армия встретит в таких тяжелых условиях, в каких ни одну из предыдущих зим она не встречала. Только поднятие национального духа может остановить процесс разложения армии и дать ей силы для преодоления трудностей зимы. Как практически разрешить поставленную задачу, вопрос сложный. Прежде всего, я полагаю, было бы большой ошибкой в дело развития национального духа вводить политику. Политике здесь не место; она всегда однобока и чрез нее мы рискуем впасть опять в те же ошибки: но углубившись до духа солдата, лишь увеличить в нем хаос понятий.
Надо пробудить любовь солдата к родине, вызвать в нем интерес к ея истории, культуре, к ея возможному будущему, а тогда он сам решит, что хорошо и что худо в области политики. Такое воспитание солдата может происходить путем печати, путем лекций и театров на фронте...
Культурные силы страны должны поддержать армию.
О необходимости поднятия духа и сознательности в армии мы читаем и в «Южном Крае», который, рассматривая воззвание Совета 12-й армии, приходит к выводу, что для поднятия духа в известных случаях допустимы даже меры физического воздействия, право применять каковое предоставлено войсковым организациям совместно с командным составом:
Исчезнувшая дисциплина чистого принуждения могла бы быть заменена воодушевлением и сознательным отношением к переживаемому моменту и к своему воинскому долгу,—но и этих импульсов почти вовсе нет в армии, которой так долго невозбранно преподносились демагогические лозунги, лишенные реальности, но сулящие заманчивые перспективы.
Лучшим, тому доказательством может послужить указанное выше воззвание Совета солдатских депутатов.
„Настал час, когда малейшее колебание погубит всю армию,—говорит воззвание, и требует—во имя революции—прекращения случаев неисполнения приказов и промедлений в боевых действиях.
Такие поступки, являются преступлением пред родиной и должны встречать энергичное противодействие. Но это последнее не должно выражаться только в моральном осуждении, которое очень часто является недостаточным для тех, кто забыл о своем долге, и о своих обязанностях и помнит только о личных удобствах и интересах.
В таких случаях неизбежны меры физического воздействия, и Исполнительный комитет совета 12-й армии стал на вполне реальную почву, объявляя о том, что будут пресекаться всякие проявления дезорганизации. В этих целях дивизионным и корпусным комитетам предоставлено право „санкционировать и решать совместно с командным составом меры пресечения и подавления, не останавливаясь ни перед чем".
Неизбежны будут такия меры и при демобилизации армии по заключению мира; лучшим доказательством этого служит частичная демобилизация, произведенная недавно в отношении старших возрастов.
«Вестник выборных особой армии» рисует кошмарную картину этой миниатюрной по количеству увольняемых солдат демобилизации:
на линиях железных дорог творится что-то невероятное. От перегрузки проваливаются полы в вагонах, лопаются рессоры. Служащие железных дорог умоляют об охране от насилия со стороны отпущенных солдат. Молят об охране дорог.
Ужасом веет, когда читаешь все эти сообщения. Когда вдумываешься в них, обдает леденящим дыханием могилы. Страшным, чудовищным кошмаром давит жестокая действительность.
Что же будет при общей демобилизации, кому придется охранять мирных граждан и железнодорожников от демобилизованных солдат? На этот вопрос газета с горечью отвечает:
Тем-же братьям солдатам. Ужели, где кончается звание солдата-гражданина и остается просто звание гражданина, там начинается отсутствие сознания необходимости порядка, долга и чувства гражданственности. Ужели там уже начало анархии, начало упадка чувства гражданского долга.
Трудно думать, чтобы те, кто творит „бесчинства" и разрушает или способствует разрушению народного богатства, кто помогает приводить в окончательную негодность наш подвижной железнодорожный состав, который и без того у нас достаточно разрушен,—чтобы эти люди не понимали какое огромное преступление совершают они как перед всей страной, так и перед теми товарищами, которых они только вчера оставили на фронте.
Вот над воспитанием сознательного отношения к народному достоянию и приходится теперь работать офицерству, а работа эта не легкая, для нее нужно сильную волю и здоровые нервы.
А вместо того, чтобы поддерживать в офицерах эту сильную волю, создавать ему возможность всецело заняться нужной для родины работой, его по-прежнему душат канцелярской перепиской в своей бесконечности и разнообразности доходящей до виртуозности.
«Голос фронта» отмечает это печальное явление и требует разгрузки канцелярий от переписок.
Спросите любого офицера и солдата, как отражается на таком кипучем деле, как военное, канцелярская волокита? Они вам ответят.
Для проверки зайдите в штабы и управления. Поразитесь той армией писарей и чиновников, которые завалены работой и пишут, не разгибаясь, увеличивая с каждым днем горы бумаги, в которых беспомощно барахтаются все, начиная с высшего командного состава. И если заняться подсчетом, то статистика с несомненностью покажет, что любой офицер больше отдает времени и труда канцелярии, чем действительному и живому военному делу.
Канцелярия наши распухли. А появившиеся реформы в армии, к сожалению, еще более увеличили их количество. Комиссариаты, комитеты, советы. И при каждом из этих учреждений канцелярии. То то теперь можно отписываться. Прежде бумаги еще шли хоть по команде, снизу вверх и сверху вниз, с остановками и отлеживанием под сукном. Теперь же есть возможность сплавлять всякие неприятные дела в сторону. Отписать их в комиссариат или комитет, которые в свою очередь напишут отношение, предложение и прочее уведомление. А потом появляются на свет формальные ошибки, начинается бумажная война. Война родит резолюцию. Резолюция родит неприятность и конфликт. И так до седьмого колена. Машинки стучат. Запасы бумаги тают. Писаря изнывают. А дело? Что ж. Известно стоить на месте. Дело не волк. Не убежит. А время убегает и всегда безвозвратно.
Вот в этой отрасли военного дела проявилось творчество нового строя в наиболее яркой форме, в канцелярию ушла вся энергия революционных реформаторов армии. Пора отказаться от канцелярщины и заняться душой живого организма армии.
Самолюбие
«Новая Жизнь» сообщает, что по вопросу о «выступлении» 20 октября среди самих большевиков существуют крупнейшие разногласия. Сторонники выступления представляют собой ничтожное меньшинство. При таких условиях:
"не вера в успех дела, а ложное партийное самолюбие, нежелание сознаться в ошибке, заставляет лидеров большинства фанатически настаивать на осуществлении раз провозглашенного лозунга во что бы то ни стало, рассудку вопреки, наперекор стихиям".
Всецело пописываемся под этой характеристикой.
Еще по теме
|