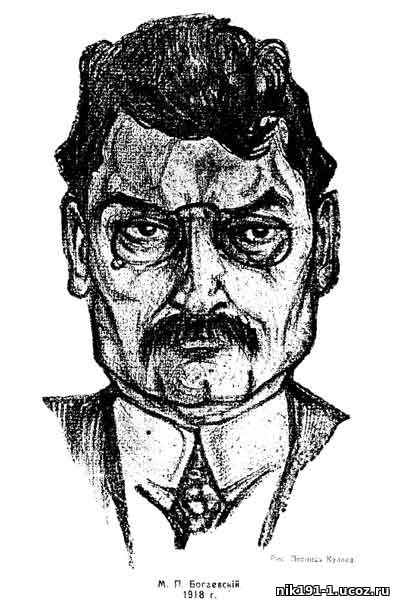
Ответ перед историй
Статья М. П. Богаевского
(начало)
В этом деле есть и другая сторона: в казачестве уже ярче определилось сильное движение главным образом среди молодежи, одним из вождей которой стал Голубов.

Николай Голубов
Совершенно не касаясь его личных особенностей, я должен сказать, что борьба отцов и детей на этом Круге выяснилась довольно определенно, хотя и носила скрытый характер: пока это было недовольство Временным Правительством и еще не было предъявлено категорических требований программного содержания, ибо большевизм в те дни на Дону не имел широкого распространения, особенно в казачьей массе. Большинство Круга к делу Голубова отнеслось нетерпимо, но выступления Атамана и отчасти мои смягчили настроение, и дело было ликвидировано. Круг кончился дружно: Атамана поддержали не только станичные депутаты, но и бывшие в наличности фронтовики.
Мелькнуло немного недель, и события не заставили себя ждать: разразились октябрьские события в Петрограде и Москве; гулким эхом отозвались они, конечно, на Дону. Стали появляться в Новочеркасске спасшиеся офицеры, юнкера и пр. Им давали кое какой приют.
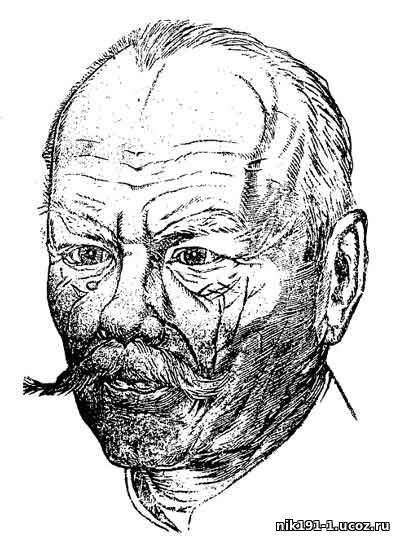
Ген. Алексеев
Приехавший в Новочеркасск ген. Алексеев спасшихся сорганизовал в группу, жившую общежитием в одном из бывших лазаретов. Тяжко было душевное состояние этих беглецов; среди них огромное большинство была молодежь, не щадившая своей жизни в борьбе за свою веру, и будет ошибкой утверждать, что это были дети богатых родителей, — нет, среди них много людей совершенно неимущих.
Мне приходилось встречаться и разговаривать с ними, но непосредственного отношения к этой организации («Алексеевской») я не имел, и все распоряжения по этому поводу делал исключительно сам Каледин. Но, конечно, я был в курсе дела.
Почему мы отнеслись так терпимо к этим беглецам? В те дни мы еще и не думали о том, что на Дону придется вести гражданскую войну, и наше отношение к беглецам из Москвы и Петрограда определялось исключительно тем, что они были политически гонимы, и никому из них не отказывали в приюте, не спрашивая их о политической вере. Никаких намерений сделать из них политическое орудие безусловно не было. И это не трудно доказать хотя на примере Родзянки. Явился он в Новочеркасск, спасаясь от ареста в Петрограде и хотел играть политическую роль. Но Каледин и особенно депутат Харламов дали ему понять, что в Новочеркасске он может проживать лишь как частное лицо. Родзянко был обижен и, тихо проживши в Новочеркасске несколько недель, куда-то выехал.
Между тем события русской жизни, борьба новой власти с своими противниками превратилась в большую гражданскую войну и в Новочеркасск прибивали новые группы бглецов из разных мест. Они устраивались сами, никаких особых забот о них ни атаман, ни Врем. Прав. не проявляли, так как было не до них, да к тому же они группировались вокруг Алексеева, который изыскивал способы их продовольствия и т. д.
Никаких казенных и войсковых денег при этом в данное время не было, и жили они исключительно частной поддержкой, кажется главным образом из Москвы. Задавалась ли какими-нибудь целями сама организация?—Насколько я знаю, первоначально никаких особых заданий не ставилось, и люди отдыхали после пережитого, но основная точка зрения самого Алексеева и его ближайших сотрудников определялась постоянно весьма точно: защита Учр. Собр. от чьих бы то ни было покушений. Было ли в этом скрытое стремление, все-таки, отстоять свои классовые интересы?—Я не могу ничего сказать относительно сотрудников Алексеева (там были разные люди, мало мне известные, но вообще по преимуществу к-д.), но Алексеев на меня произвел впечатление положительное: его слову можно было верить.
—В ходе своего повествования я до сих пор не коснулся одного момента в жизни казачьих войск Евр. России: Ю.-В. Союза. Мысль о нем возникла еще в первые дни казачьих съездов, но тогда она реализовалась в виде союза каз. в. с советом его во главе, находившимся в Петрограде. Союзу не суждено было сыграть крупной политической роли, нам слабым она казалась соединением и в виде Ю. В. С. Ю. В.
Союз был обоснован в идее на июльской конференции, где были представители почти всех частей, вошедших впоследствии в Союз. Союзу придавали значение главным образом политическое: в нем видели серьезную попытку поддержать и укрепить идею государственности, гибнувшей под напором анархии внутренней и бессилия внешнего, но это мыслилось нами в форме воздействия на Россию посредством орудия: мы думали устраивая у себя демократический строй, способствовать укреплению порядка и в остальной России, с которой мы неразрывно связывались Учр. Собранием, подчиняться воле котораго считали своею обязанностью.
Все казачество Евр. России в те дни определенно держалось за свою казачью программу. Достаточно посмотреть подсчет голосов по казачьим полкам, чтобы убедиться, что еще в ноябре даже фронтовики дружно голосовали за список № 1, во главе которого шел ген. Каледин.
Список же этот опирался исключительно на казачью программу. Ю.-В. Союз, ставивший себе цели государственные и стремившийся к объединению казачества для устроения местной жизни оказался предприятием мертворожденным: внутри каждой области оказалась чрезвычайно сложной местная обстановка (Дон, Кубань, где казачество и крестьянство оказались в половинах, Терек-казаки, горцы и крестьянство) в особенности, конечно, в связи с казачьими землями, за которыми потянулось крестьянство.
С Оренбургом и Уралом с первых же дней существования Союза связь почти оборвалась и носила случайный характер; я должен указать категорически, что никакого руководящего начала по отношению с другими войсками Дон не имел и на него Каледин ни в какой форме не претендовал.
Трудной связь оказалась еще и от того, что пути сообщений с первых дней революции стали весьма трудны. Нечего говорить, что ни город не мог играть по своей неорганизованности какой-либо роли в Союзе, ни тем более калмыки и киргизы, где политическая жизнь едва-едва стала пробиваться. Во время борьбы с большевизмом, я утверждаю никакой организованной помощи не было и быть не могло: каждая область действовала за свой страх и риск.
Чем объяснить такое упорное сопротивление казачьих областей? Неужели только проискали генералов и помещиков (в некоторых обл. помещиков нет: Урал, отчасти Терская)?—Я склонен думать, что в этой борьбе много глубоких причин, которые нельзя, не допустить разрешать только исходя из посылок боевых программ.
Казачество, б. м. кончает свое историческое существование, и долгая его обособленность, и тяжелая служба, и некоторый бытовой уклад, и индивидуальная черта казака (все это применительно к большим или меньшим группам)—все это не маловажные факты, сыгравшие не последнюю роль в борьбе с большевизмом. Я уже не говорю о том, что земельный вопрос для казака не стоял в такой резкой форме, как для солдата-крестьянина.
Ко всему этому остается добавить еще один небольшой штрих: в первые же дни революции казачество не спешило с устройством исполн. комитетов, ибо для него в новом строе самым существенным было снятие опеки Окр. Атам. над станицей, а остальное казаки нашли сами. Захват власти большевиками в крупных цифрах отразился в обл. прежде всего на Ростове, где переворот произошел с помощью черноморских моряков. Причины, благодаря которым появились моряки в Ростове, объясняются главным образом теми преувеличенными слухами, которые упорно распускались по всей России о том, что Каледин:
1) угнетает крестьян,
2) преследует рабочих на рудниках и разгоняет рабочие организации и
3) не выпускает из области хлеба и угля.
Эти три обвинения, к сожалению, держатся и доныне. Они сыграли печальную роль в декабрьском „усмирении" Ростова Калединым. Вопрос об отношении к крестьянству я уже затрагивал и теперь еще категорически утверждаю, что нет решительно никаких оснований говорить, что Каледин мешал жить донскому крестьянству: в его жизнь в областях и в округах Войск. Правит. совершенно не вмешивалось, но не отказывало в содействии: земство казаки в июле-августе с комиссарами-няньками отвергли, но никто не мешал донскому крестьянству спешить со своей организаций. Во всяком случае говорить о том, что Каледин вешал крестьян на всех телеграфных столбах и т. д.—одна из жестоких вопиющих провокаций, ничего никому, кроме зла, не принесших.
Обвинения по поводу гонений на рабочих и их организации возникли по более серьезным причинам. Угольные районы Донецкого, а в особенности Черкасского и Таганрогского округов, с первых дней революции были в движении: организовывались комитеты, безусловно производилось вооружение рабочих. Первоначально отношения владельцев и рабочих были сносны, но затем они постепенно обострялись, падала производительность рудников, причем, видимо, немало было грехов с обеих сторон; особенно острым был вопрос о рудничной милиции.
Временное Правительство, упразднив полицию, по всей России ввело милицию, кроме Донской обл., и этим в течение нескольких месяцев область была поставлена в трудное положение: во многих местах стали создавать местную милицию, но за отсутствием средств она разбегалась или была не лучше прежней полиции. Каледин с первых дней атаманства усиленно добивался введения государственной милиции, полагая, что только независимая по своему положению милиция в состоянии выполнить требования государства, в особенности по охране безопасности жителей.
Совершенно иначе к этому относились рабочие, и попытки вводить на рудниках милицию приводили к недоразумениям. Между тем Временное Правительство, озабоченное паденим добычи угля, принимало меры к охране рудников и урегулированию на них отношений. Работу комиссара Орлова Каледин, исключительно стоя на тогдашней государственной точке зрения, так же, как по отозванию полков на Дон, считал недопустимой, не мирился с тем, что рудники не выполняли полностью своего назначения, и отсюда те передвижения казачьих частей на рудники Макеевского района, где было особенно тревожно, благодаря деятельности таких непримиримых демагогов, как Переверзев.
М. Богаевский.
(Окончание следует).
Донская волна 1919 №25(53), 30 июня
Еще по теме
М. П. Богаевский. Ответ перед историй. Часть 1
М. П. Богаевский. Ответ перед историй. Часть 2
М. П. Богаевский. Ответ перед историй. Часть 3
|