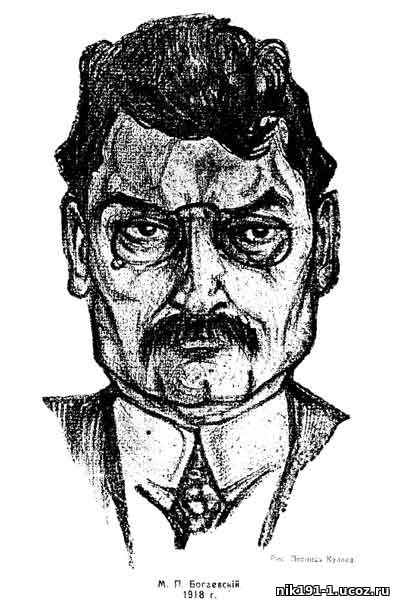
Ответ перед историй
Статья М. П. Богаевского
„Ответ перед историей" —наиболее сильная статья трагически погибшего трибуна донской земли Митрофана Петровича Богаевского. Эту статью можно считать политической автобиографией покойного и едва ли не лучшим прогнозом эпохи атамана А. М. Каледина. К сожалению, статья не дописана и доведена только до приезда представителя революционного казачества Подтелкова в Новочеркасск. История этой статьи такова.
Из Сальских степей, где мятежный войсковой старшина Голубов пленил М. П. Богаевского, он доставил его в тюрьму станицы Великокняжеской.
— Что же мне здесь делать?—спросил Митрофан Петрович Богаевский у Голубова.
— Пишите свои воспоминания, припомните свои деяния,—ответил Голубов. И с улыбкой добавил:
— И назовите их ответом перед историей.
М. П. Богаевскому дали бумагу и на листках писчей и почтовой бумаги химическим карандашем донской баян стал давать свой ответ перед историей. До конца его довести не удалось—Голубов увез в конце марта 1918 года Богаевского в Новочеркасск, а дальше последовала смерть. Несомненно, "Ответ перед историей" только конспект к настоящему ответу перед историей, который дал бы Богаевский, если бы он дожил до лучших дней.
Рукопись относится к периоду от 10 до 18-19 марта 1918 года и хранится в архиве у вдовы М. П. Богаевского—Елизаветы Дмитриевны, любезно предоставившей ее для юбилейного номера "Донской Волны".
***
29 января 1918 года.
В. Ат. Каледин кончил жизнь самоубийством. Его смерть была не только концом человека, но и началом конца очень сложного политического положения, выявившегося с первых дней революции на ю. в. России. Положение это оказалось сложным прежде всего политически, ибо казачество, не порывая с Россией, стремилось к широкой автономии и даже федерации, но тем не менее сложным оказалось положение и в отношении социально-экономическом: смешанный пестрый состав населения, численное преобладание „иногородних“, которые владеют экономической жизнью, но не землей (огромная часть ее в руках казачества), бытовые условия жизни казачества, людные торговые города, огромный рост промышленности,—все это те сложные условия, тот запутанный узел, который нельзя разрубить одним ударом при помощи какой бы то ни было программы.
Революция дала сильнейших толчок к началу перестройки, но это начало, к сожалению, не прошло без сильнейших потрясений всей краевой жизни, и трудно сказать, кому, когда и как удастся успокоить разбушевавшееся море. Судьбе было угодно с середины марта 1917 года по конец января 1918 года поставить меня близко к донским делам, на мне лежала большая работа и еще большая ответственность, ныне же „март", мне уже грозит и жестокий самосуд ибо во мне хотят видеть одного из главных виновников гражданской войны на Дону и даже на ю.-в. России.
Это одна из жесточайших ошибок, где сказывается политическая естественная близорукость современников, которые просто ищут виновника—лицо, но не хотят, а иногда и не могут вдуматься в первопричины некоторых явлений, и тогда уже браться за личности, столь часто являющиеся только орудием в некоторых явлениях социально-экономической жизни да в особенности в революционное время.
Одна из жесточайших ошибок, где сказывается политическая естественная близорукость современников, которые просто ищут виновника-лицо, но не хотят, а иногда и не могут вдуматься в первопричины некоторых явлений, и тогда уже браться за личности, столь часто являющиеся только орудием в некоторых явлениях социально-экономической жизни да в особенности в революционное время.
Мне задана нелегкая задача: беспристрастно осветить свою общественную деятельность в дни революции. Начну хронологически, давая справки главным образом на память, ибо никаких документов у меня под руками нет в данное время.
Каменская станица, казаком которой я состою, в марте 1917 года послала меня в Петроград на общеказачий Съезд. Мне пришлось на нем председательствовать. Огромная часть (более 2/3) этого съезда были фронтовики всех Казачьих Войск. Настроение было очень бурное, но там уже была намечена казачья программа по трем главным вопросам: общеполитическому, местного самоуправления и земельному. По первому была признана — республика, единая и неделимая, по второму — автономность, по третьему — неприкосновенность казачьих земель (войсковых и юртовых).
Мне, как председателю, в качестве оратора выступать не приходилось, как не мог я принимать участия и в комиссионных работах, да к тому же нужно заметить, что я, учитель по профессии, директор общественной гимназии до 1-го марта 1917 года, не настолько был знаком с общественными делами, чтобы с первых же дней оказать серьезное влияние на выработку казачьей программы.
Участники этого съезда оценили меня главным образом, как толкового умелого председателя большого (500-600 человек), бурного и молодого съезда, впервые свободно решавшего свои дела. Здесь я не могу не признать за собой этого уменья, выработанного в студенческие годы, когда с 1906 по 1908 год я был старостой Петербургского университета и пользовался полным доверием широких студенческих масс, хотя и был беспартийным.
Знал я то, что у казачества по Дону, Хопру и Медведице — худшие земли, а крестьяне Таганрогского, Ростовского и Донецкого округов живут на лучших землях и их 3 мил. надельных земель равняются 5 мил. казачьей средней земли; знал и то, что частновладельческие земли, «а они не плохие», должны перейти к крестьянству, которому они ближе, и твердо я верил, что крестьянство на Дону обижено не будет, что и ему Дон будет родным отцом, и когда была весна революции, я не один так верил и думал.
Место для здания новой жизни мы нашли, заложили и фундамент, да, оказывается, для здания материала не приготовили: вот здесь-то начинается наша беда, которую и по нынешний день мы не разберем: программу выработали, но для ее практического осуществления нужно сделать еще очень и очень многое. Ничего же этого нет и не было.
По окончании съезда остался казачий исп. Ком., меня оставили в нем в качестве председателя. Комитету было поручено подготовить созыв 1-го Донского Круга в мае месяце. Работа эта шла под моим руководством, но, опять таки, я лично ни в одной комиссии не был, так как было много другого дела, но должен сказать, что работы комитета шли в рамках казачьей программы мартовского общеказачьего и апрельского Донского съездов.
В середине мая собрался большой крестьянский съезд в Донской Области. Весь он от начала до конца прошел под знаменем партии соц.-рев. Вожди Донского крестьянства братья Мазуренки были отстранены, а они, как коренные жители Области, как раз искали путей соглашения с казачеством.
Выступал на нем, вместе с знатоком земельного вопроса на Дону С. В. Макаровым, и я. Мы изложили казачью земельную программу, доложили о земстве, в котором предполагалось объединить казачество и крестьянство в общей работе, указали, что казачество свое управление в старинном виде стремится восстановить, не мешая никак всему остальному населению устраивать свои дела по своему усмотрению.
***
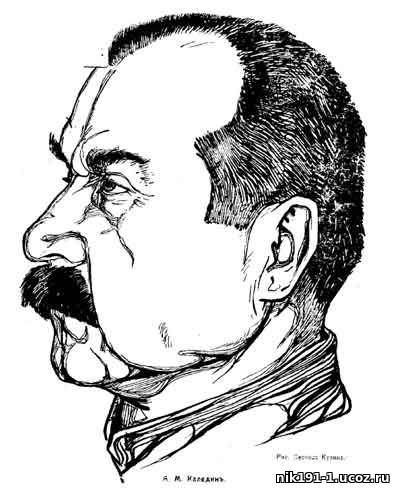
В. Ат. Каледин к новым людям присматривался внимательно и относился крайне осторожно. Влияние его на казачество было очень велико, и с его голосом считались всегда. Не я оказывал на него влияние, он оказывал его на меня, и на Кругах были случаи, когда мне приходилось выступать по его указанию. Этим я не хочу сваливать все на покойного, ибо я и сам имел свои точки зрения, но считаться с Атаманом я должен был всегда.
Блок с кадетами для Ат. и В. Пр-ва имел тяжелые последствия. Если большинство станиц относилось к нему довольно безразлично, то Донские полки были сильно встревожены и увидели в этом большую опасность реакции и контрреволюции. В течение многих дней впоследствии пришлось мне выяснять полковым депутациям причины, приведшие нас к блоку.
На сентябрьском Круге блок был уничтожен, но его вредные для Дона последствия не изгладились. Здесь свою вину я безусловно признаю, но могу дать слово: ни одной мысли, направленной против народа, у меня при этом не было.
После Малого Круга, в августе, А. М. Каледин уехал на Московское Государственное Совещание и там сделана была вторая крупная политическая ошибка: по решению казачьей группы, бывшей на Совещании, Каледин читал декларацию этой группы; и этим, вероятно, себе повредил, ибо декларацию везде выдавали за речь Каледина. Центр ее тяжести заключается в пункте об уничтожении военных комитетов. Каледин был их сторонником в хозяйственном обиходе роты и полка, но отвергал в остальном. В пределах законов о ком-тах он (насколько я знаю воен. Донские дела) никогда не отказывался иметь с ними постоянную связь. Должен попутно заметить, что мое отношение к военному делу никогда не было сколько нибудь близким: здесь Каледин был полным хозяином.
***
По своим обязанностям Помощника Войскового Атамана я часто соприкасался с полковыми депутациями, так как некоторые из них имели указания от полков быть и в Войсковом Правительстве. Я уже и тогда видел, что Между «отцами» и «детьми» появилась какая-то рознь, причины которой для меня глубоки еще и доныне ведь не враги же отцы своим детям, как дети не могут задумать лихого против отцов? Единственное возможное объяснение — разница политического горизонта: фронтовой уже многое видел и слышал, многое пережил за длинную войну и потому ищет новых путей жизни; отец же, сидя дома, естественно держался привычного образа жизни и мысли; война изнурила всех, и одни ждали после нее мира и покоя, другие стали искать путей к перестройке всей жизни, чтобы впредь не было такого положения, какое создалось в нынешнюю войну. Смущает же меня до сих пор враждебность отношений, указывающая, что обеим сторонам нужно сделать уступки и тогда станет легче.
Здесь я снова должен указать на то, что политика Войскового Атамана и Правительства в августе и сентябре настолько стала внешней, т. е. связанной с Временным Правительством, что дела местные ушли из поля нашего зрения, и мы не имели возможности оказать ни хорошего, ни дурного влияния на ход событий среди крестьянства и казачества. И это была наша, хотя и невольная, но большая ошибка: мы проглядели внутренние сложные дела. Да к тому же в это время уже ярче стали определяться большевистские течения в широких массах народа, затронуто ими было и казачество, хотя и держалось еще пассивно.
Почему Атаман, я, Войск. Пр-во и Войск. Круги стали, однако, на точку зрения активной борьбы с большевизмом и верили так долго в свою победу? Почему даже съезд иногородних в декабре 17-го, январе 18-го г., несмотря на присутствие в его среде нескольких десятков большевиков, также признал необходимость этой борьбы?
Вот здесь я подхожу к одному из самых острых вопросов русской жизни и не в моих силах на него дать полный исчерпывающий ответ. В настоящее время становится более очевидным то заблуждение, когда в большевизме видели отголоски германизма, когда даже люди широкого политического кругозора еще не предугадывали такого развития и укрепления большевизма в широких народных массах.
Нельзя забыть еще одного весьма серьезного обстоятельства. Не только русское интеллигентное общество, но и народ в первые месяцы революции жили верой в Учредительное Собрание, считая его единственным правомочным хозяином России. Но многие причины постепенно убивали эту веру и роспуск Учредительного Собрания ни на кого не произвел особого впечатления... Поскольку донское казачество было представлено на своих Кругах и Съездах, оно постоянно стояло на позиции Учредительного Собрания.
Каледин и я никогда не сходили с этой позиции и лишь в последнее время от нее пришлось отказаться, так как то, что ждал народ от Учредительного Собрания, он получил от совнаркома — мир, землю и волю. Мир казачеству нужен был не менее, чем всей России, воля осуществлялась в самоуправлении, что касается земли, то казачеству придется пройти несколько этапов перестройки своего хозяйства и своих понятий о казачьей собственности: этот процесс, вероятно, легче пройдет в северных станицах, значительно труднее в южных.
Круг с сентября со всей очевидностью показал нелепую фантазию Керенского прихватить к делу Корнилова и Каледина. При полном единодушии Круг не только оправдал Атамана, но и отказал в его выдаче, предлагая прислать следственную комиссию в Новочеркасск, так как начавшиеся самосуды в войсках не внушали надежды на то, что поездка Каледина пройдет для него благополучно. Сам он хотел ехать, и Кругу стоило труда удержать его от этого шага.
Много говорилось и писалось о моей роли в этом деле: меня считали главным защитником „атамана— бунтовщика". Я не стану отрицать того, что дело это я близко принял к сердцу, ибо в нем с горечью видел поразительное легкомыслие временного правительства, не сумевшего привлечь на свою сторону казачество, проявлявшее в то время полную лояльность. По отношению к личности Каледина я видел грубую ошибку, так как нелепо было сомневаться в его послушании Временному Правительству.
Я здесь настойчиво подчеркиваю характерную черту Каледина в политическом его кругозоре: он был решительным противником федеративных стремлений некоторых групп казачества, считая их запоздавшими мечтами. В этом взгляде мы были с ним вполне согласны и в своей работе никогда не стремились порвать тесных связей с Россией, ибо твердо верили, что без свободной России никогда не будет Вольного Дона.
Сентябрьский круг важен еще в одном моменте. На нем выступали представители с. р. и с. д. во главе с Михаилом И. Скобелевыми. Еще во время мартовского съезда казачества в Петрограде оно ставило вопрос о том, нет ли своевластия в параллельном существованию с. р. и с. д. и Времен. Правительств. Понятен будет отсюда тот интерес, с каким на круге встретили одного из главных деятелей первых дней революции. Его объяснения совершенно не удовлетворили Круг, так как вся речь сводилась больше к революционной фразеологии.
Когда Скобелев не мог дать определенного ответа на вопрос Каледина, почему Временное Правительство не проверило на месте „мятежа", то Каледин с горечью бросил Кругу фразу:
„вы видите, чего нам ждать от такого правительства".
В этой фразе впоследствии видели подтверждение мятежности Каледина. В связи с делом Каледина на Круге разбиралось дело войскового старшины Голубова, обвинявшегося в том, что он хотел арестовать атамана, ехавшего с севера области. Казачество, отстаивая своего выборного человека, отрицательно отнеслось к такому предприятию казака же.
(Продолжение следует).
Донская волна 1919 №22-24(50-52), 16 июня
Еще по теме
М. П. Богаевский. Ответ перед историй. Часть 1
М. П. Богаевский. Ответ перед историй. Часть 2
М. П. Богаевский. Ответ перед историй. Часть 3
|