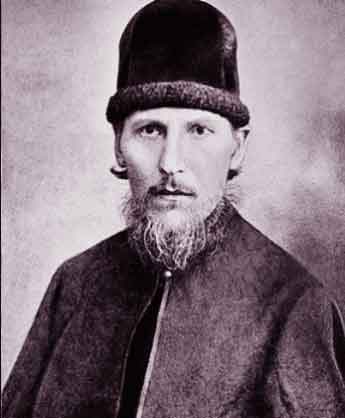
По материалам журнала "Пробуждение", № 6, 1917 г.
Трудно найти человека, у которого бы так сливалось «учение» с «жизнью», как это было у покойного епископа Михаила.
Писать «воспоминания» о нем—это значит писать и об его веровании. И нельзя говорить о его веровании—не вспомнив «жизни».
Я был знаком с епископом Михаилом с той эпохи, когда он был «архимандритом Михаилом»—«православным профессором». Но и в то время он был столько же православным, сколько впоследствии «старообрядцем». И напрасно хотят видеть здесь некоторую неискренность. Это была широта—не вмещающаяся ни в одно из существующих вероисповеданий.
Не мешало же Владимиру Соловьеву православие причащаться в католическом костеле.
Потребность церковного общения была очень сильна у епископа Михаила—и когда он почувствовал, что общению этому угрожает внешняя сила—он ушел в старообрядчество. Внутренних препятствий к такому переходу у него не было, потому что и православие и старообрядчество было для него одинаково не всей истиной.
Помню, вначале «переход архимандрита Михаила в старообрядчество» смущал и меня. А несколько лет спустя, когда произошло наше сближение, он говорил мне:
— Таинство подлинное совершается во всех христианских церквах. Это одно и осталось в них непоколебленным. Принадлежность к той или иной внешней церковной организации—вопрос не столько религиозный, сколько житейский. Современный христианин должен чувствовать себя и в каждой из этих церквей—и ни в одной.
Эти черты—носят название «вселенского христианства». Но епископ Михаил был не вселенским, а голгофским христианином.
Он примыкал к религиозному течению, присвоившему себе это наименование и сгруппировавшемуся впоследствии вокруг журнала «Новая Земля». Он мечтал объединить всех «голгофских христиан» России, и, все же епископ Михаил менее всего был «сектант»,—он ни от кого не «отделялся» и никого не призывал к «отделению». Он считал, что наступила пора для тех, кто вырос духовно из внешних церковных рамок—объединиться (не порывая корней своей церковности)—для великого вселенского дела.
В чем же был «пафос» его нового исповедания?
Я приведу несколько кратких выдержек из его писания, которые исчерпывают вопрос:
— «Христово Христианство»—постоянная Голгофа—великое распятие каждого. Принятие на себя, на свою совесть всего зла, в котором лежит мир, ответственность за все, что жизнь разлагает, пятнает проказой.
И подменять страстное, мучащееся, способное перевернуть мир христианство тем христианством без крови и жизни, и духа, какое все в одном сладком отдыхе около Креста,—хула на Духа Святого.
Христианство—работа над переустройством земли в землю праведную, в царство правды—и борьбы за правду. И всякое иное христианство—ложь.
Мир еще не «спасен». На Голгофе принесена первая великая жертва за мир, величайшая жертва, как образец и призыв, как проповедь и великое действие слияния воли Христовой с волей человеческой.
Христос на Голгофе бросил на мир кровь Свою, чтобы напугать людей зрелищем распятой жизни и заставить всех людей под Его главенством и с Его помощью начать искупление мира. Искупление должно было совершить человечество, принявшее великую мысль о преобразовании мира, провозглашенную со Креста.
«Исповедание голгофских христиан», написанное еп. Михаилом, заканчивается следующими словами:
— «Из креста—огонь».
Да, мы можем добывать огонь из креста, если захотим. Если поймем, что искупление мира Христом не прошлое, а еще будущее дело.
И совершено будет оно вместе с Ним—нами.
...«Пора помочь Христу. Он устал». Терн изранил Лицо Его. Он изнемог до кровавого пота и скорбит, что он все еще Один, что нет около Него ни одного христианина...»
У человека, выстрадавшего идею голгофского христианина, жизнь должна была быть Голгофой. Распятием за всех.
И именно такою была внутренняя жизнь епископа Михаила.
Не даром в одной из его статей вырвался крик нестерпимой боли:
— «Каждое окно позорного дома—мое... Каждое бревно тюрьмы—мое и мною построено. Иуда целует Господа: я целую... я предаю... Меня предают... Да это тяжко. И это христианство...»
Тяжко, с великою скорбью жил епископ Михаил. И может быть скрыт особый смысл в том, что внутренняя Голгофа его завершилась страшной мученической смертью.
Когда я читал отрывочные газетные сведения о «пропавшем» на подмосковной станции епископе Михаиле—мне чудилось—открываются страницы новой, современной Голгофы.
«Босого, без шапки, больного епископа видели около Рязанского вокзала...»
А через день:
«Епископа Михаила в бессознательном состоянии подняли на улице. Ночью он забрел в квартиру ломовых извозчиков, потушил лампу и хотел лечь на нары—его приняли за вора, избили и выбросили на мостовую...»
«В больнице у епископа обнаружили перелом трех ребер. Епископ скончался...»
Мученик—нашел покой.
Внешняя жизнь епископа Михаила шла ровно. Если не считать «перехода в старообрядчество»—в ней не было больших потрясений. Но внутренний трагизм ее от этого подчеркивался еще ярче.
Мое сближение с епископом Михаилом относится к 1909 году.
Епископ Михаил в «денежных вопросах» был сущий ребенок. А в личных денежных делах — подлинный бессребреник. Он отдавал все, что имел. Никогда не забуду, как при мне у него попросили взаймы. Епископ Михаил засуетился, обшарил карманы. Нашел золотой—и сунул в руку просителю. Чрез несколько минут, смотрю, он срывается с места и, подобрав рясу, бросается бегом вдогонку за уходившим. Маленький, без шапки, как-то странно подымая ноги. Догнал. Оказывается, что же? В кармане еще нашелся один золотой!
Был ли епископ Михаил аскетом?—И да, и нет.
Он был аскет в том смысле, что ничто внешнее не порабощало его. Он был «выше плоти». Но и в его «аскетизме» был тот же дух свободы, что и в вероисповедании. Аскет-епископ мог спать на полу, как на перине, потому что ему «все равно на чем спать». Мог есть черный хлеб—не мечтая об осетрине—потому что ему было «все равно что ни есть».
Но этот же аскет-епископ с легким сердцем мог есть мясо и спать на мягкой постели, если ничего другого не было. Мог пойти за кулисы театра, чтобы посмотреть нужную ему пьесу, и не считал грехом шутить, смеяться и «бегать взапуски», как раз бегали мы с ним на даче.
Самое яркое воспоминание мое о епископе Михаиле относится к тому периоду, когда он решил во что бы то ни стало от слова перейти к делу— сообща помолиться, утвердить исповедание голгофских христиан и начать действовать. Он считал возможным не только по новому помолиться—т.-е. без заученных молитв, но и свершить евхаристию. Он верил, что дело не в количестве собравшихся, а в самом факте перехода от слов к делу, хотя бы свершилось это среди 3—10—15 человек. Важна не внешняя численность,—а мистический факт такого «начала». Еп. Михаил горел эти дни. И когда он писал: Из креста—огонь. Он писал не «фразу»...
Епископ Михаил при жизни был запрещен в священнослужении. Когда он умер, на него надели митру и полное архиерейское облачение. Запрещение было снято—и его торжественно похоронили.
С мертвым примирились служители буквы.
Современники его не поняли и не оценили. Не даром в некрологах его называли «измятой душой» и жалели, как хорошего человека, но «неудачника».
Да, если «удачей» считать «общественное положение»—тогда он был неудачник. Но я убежден, что придет время и идея голгофского христианства о будущем искуплении произведет переворот в религиозной психике—и тогда вспомнят и по новому поймут и оценят епископа Михаила, одного из зачинателей и вдохновителей этого движения...
В. Свенцицкий.
|